Погода в халаге на месяц, Погода в Халаге на месяц
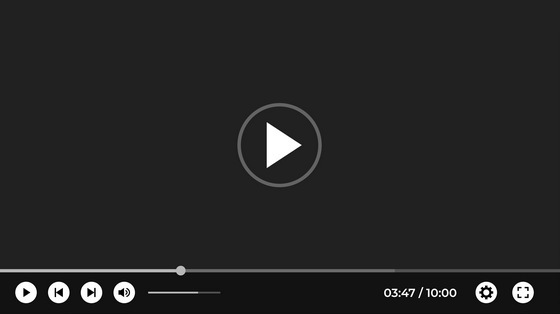
Иногда он писал одно и то же домашнее задание на трех языках: французском, латыни и греческом, и в стихах. Теперь функция звука «р» перешла к конкретному имени, что характерно и естественно для табасаранского языка. Родители у него зажиточные, вот они его и балуют. Четыре Направления в обществе Табасарана Изначальная история первого направления табасаран начинается с того периода, когда этот народ в лице евреев эмигрировался в Кавказ от их уничтожения Амановскими войсками.
Средняя стоимость пачки местных сигарет RUB 8. Средняя цена ночлега в Mayenne в 2. Средняя цена топлива в Mayenne является в 1. Средняя стоимость проезда в Mayenne является в 2. Средняя стоимость питания в ресторане в Mayenne является в 1.
Средняя стоимость питания в Mayenne является в 1. Dwight Wallace - фотограф и искатель приключений 27 лет, Знак зодиака: Лео Dwight Wallace никогда не забывает работать утром. Увлечения: Воспроизведение музыки, стрельба, Беговая.
Переключить навигацию. Показать больше Показать гостиницы на карте » Предложения гостиниц в Франция. Бронирование лучших гостиниц в Франция - в партнерстве с booking. Каковы цены в Mayenne? Хотите знать, сколько стоит ужин? Какова стоимость проживания? Сколько денег мне нужно для покупки в супермаркете в Mayenne?
Dwight Wallace недавно посетил Mayenne и подготовил эту статью о ценах в Mayenne. Но, чтобы отскрести известку, нужен был нож. Шарль предложил свой. Сыпалась изморозь. Все повернули обратно. Вечером г-жа Бовари не пошла к соседям, и когда после ухода Шарля она осталась одна, перед ней с отчетливостью почти непосредственного ощущения и с той удаленностью перспективы, какую сообщает предметам воспоминание, вновь возникла все та же параллель.
Лежа на кровати, она не отводила глаз от жарко пылавшего огня и как сейчас видела Леона -- он стоял, одной рукой помахивая тросточкой, а другой держа Аталию, которая с невозмутимым видом посасывала льдинку. Он казался Эмме очаровательным; она приковала к нему мысленный взор; она припоминала те положения, какие он принимал в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, весь его облик и, протягивая губы словно для поцелуя, твердила:.
Qui donc? Уж не влюблен ли он? Да в меня! Вся цепь доказательств в одно мгновение развернулась перед Эммой, сердце у нее запрыгало. От огня в камине на потолке весело бегали отблески. Эмма легла на спину, потянулась.
И вслед за тем начались беспрерывные вздохи: "Ах, если б это сбылось! А почему бы нет? Кто может этому помешать?.. Шарль вернулся в полночь, и Эмма сделала вид, что только сейчас проснулась; когда же он, раздеваясь, чем-то стукнул, она пожаловалась на головную боль, а затем безучастным тоном спросила, как прошел вечер. Она не могла сдержать улыбку и, отдавшись во власть нового для нее очарования, уснула. На другой день, когда уже смерклось, к ней пришел торговец модными товарами г-н Лере.
Ловкий человек был этот купец. Уроженец Гаскони, он впоследствии стал нормандцем и сумел сочетать в себе южное краснобайство с кошской хитрецой. Его обрюзгшее, дряблое безбородое лицо было точно окрашено отваром светлой лакрицы, а недобрый блеск маленьких черных глаз казался еще живее от седины. Кем он был раньше - никто не знал: одни говорили - разносчиком, другие - менялой в Руто.
Но вот что, однако, не подлежало сомнению: он обладал способностью делать в уме такие сложные вычисления, что даже сам Бине приходил в ужас. Угодливый до льстивости, он вечно изгибался, точно кому-то кланялся или кого-то приглашал. Оставив при входе свою шляпу с крепом, он поставил на стол зеленую картонку и, рассыпаясь в любезностях, стал пенять на то, что до сих пор не заслужил доверия "сударыни".
Он подчеркнул эти два слова. А между тем ей стоит только приказать, и он достанет для нее все, что угодно: и белье, и чулки, и галантерейные, и модные товары - ведь он непременно каждую неделю ездит в город.
У него дела с лучшими торговыми домами. Можете спросить про него в "Трех братьях", в "Золотой бороде", в "Длинноногом дикаре" - хозяева знают его как свои пять пальцев! Так вот, нынче он хотел показать, между прочим, сударыне некоторые вещицы, которые попали к нему по счастливой случайности. С этими словами он достал из картонки полдюжины вышитых воротничков.
Тогда г-н Лере бережно вынул три алжирских шарфа, несколько коробок английских булавок, соломенные туфли и, наконец, четыре рюмки для яиц, выточенные каторжниками из скорлупы кокосового ореха. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, подавшись всем корпусом вперед, он жадно следил за выражением лица Эммы, растерянно перебегавшей глазами с предмета на предмет. Время от времени г-н Лере, будто бы снимая пылинку, проводил ногтем по разостланному во всю длину шелковому шарфу, и шелк, чуть слышно шурша, трепетал, а золотые блестки ткани мерцали звездочками в зеленоватом свете сумерек.
Когда вам будет угодно. Мы ведь с вами не жиды! Подумав немного, она поблагодарила г-на Лере и отказалась, а он, нисколько не удивившись, проговорил:. Я со всеми дамами лажу, кроме собственной жены! Денег я и сам мог бы вам дать, когда нужно. Можете на меня рассчитывать! Bovary soignait alors. И потом вдруг начал расспрашивать, как здоровье папаши Телье, владельца кафе "Франция", которого в это время лечил г-н Бовари.
Он кашляет так, что весь дом трясется. Боюсь, как бы вместо фланелевой фуфайки ему не понадобилось еловое пальто. В молодости он любил кутнуть! Такие люди, как он, сударыня, ни в чем меры не знают! Он сгорел от водки. А все-таки грустно, когда старый знакомый отправляется на тот свет. Надо будет зайти на днях посоветоваться с доктором - спина очень болит. Ну, до свидания, госпожа Бовари!
Всегда к вашим услугам! Нижайшее почтение. Эмма велела подать обед к ней в комнату и села поближе к огню; ела она медленно; все казалось ей вкусным. На лестнице послышались шаги: это был Леон.
Эмма встала и взяла с комода из стопки первое попавшееся неподрубленное полотенце. Когда Леон вошел, у нее был в высшей степени деловой вид. Разговор не клеился. Г-жа Бовари поминутно прерывала его, Леон тоже как будто чувствовал себя крайне неловко.
Он сидел на низеньком стуле у камина и вертел в руке футлярчик из слоновой кости; Эмма шила и время от времени расправляла ногтем рубцы. Она не говорила ни слова; Леон, завороженный ее молчанием, как прежде ее разговором, также был нем. Наконец, сделав над собой усилие, он сказал, что на днях ему придется по делам нотариальной конторы съездить в Руан. Занятие Эммы раздражало Леона. Ему казалось, что она все время колет себе пальцы.
Он придумал галантную фразу, но не посмел произнести ее:. Mon Dieu, oui! Ах, боже мой когда же мне? Надо хозяйство вести, о муже заботиться - словом, у меня много всяких обязанностей, масса куда более важных дел! Elle regarda la pendule. Alors elle fit la soucieuse. Она посмотрела на часы. Шарль запаздывал. Она сделала вид, что беспокоится. Le clerc affectionnait M.
Помощник нотариуса был расположен к г-ну Бовари. Но это проявление нежности к нему со стороны Эммы неприятно поразило Леона. Однако он тоже рассыпался в похвалах Шарлю и добавил, что все от него в восторге, особенно фармацевт. И тут же заговорил о г-же Оме, над неряшливостью которой они оба часто посмеивались. С этого дня так и пошло. Ее слова, поведение - все изменилось. Она вся ушла в хозяйство, постоянно бывала в церкви, приструнила служанку.
Elle retira Berthe de nourrice. Берту она взяла домой. Когда приходили гости, Фелисите приносила ее, и г-жа Бовари раздевала девочку и показывала, какое у нее тельце. Она всех уверяла, что обожает детей. Это ее утешение, ее радость, ее помешательство. Когда Шарль приходил домой, ему всегда теперь грелись подле истопленного камина туфли.
У всех его жилетов была теперь подкладка, на сорочках все до одной пуговицы были пришиты, ночные колпаки, ровными стопками разложенные в бельевом шкафу, радовали глаз. Когда супруги гуляли по саду, Эмма уже не хмурилась, как прежде; что бы Шарль ни предложил, она со всем соглашалась, всему подчинялась безропотно, не рассуждая.
И когда Шарль, раскрасневшийся после сытного обеда, сидел у камелька, сложив руки на животе, поставив ноги на решетку, и глаза у него были масленые от испытываемого им блаженного состояния, когда девочка ползала по ковру, а эта женщина с гибким станом перевешивалась через спинку кресла и целовала мужа в лоб, Леон невольно думал:.
Эмма казалась Леону столь добродетельной, столь неприступной, что у него уже не оставалось и проблеска надежды. Подавив в себе желания, Леон вознес-ее на небывалую высоту.
Чисто женские свойства отсутствовали в том образе, который он себе создал, - они уже не имели для него никакой цены. В его представлении она все больше и больше отрывалась от земли и, точно в апофеозе, с божественной легкостью уносилась в вышину. Он любил ее чистой любовью, - такая любовь не мешает заниматься делом, ее лелеют, потому что она не часто встречается в жизни, но радости этой любви перевешивает горе, которое она причиняет в конце.
Le pharmacien disait :. Эмма похудела, румянец на ее щеках поблек, лицо вытянулось. Казалось, эта всегда теперь молчаливая женщина, с летящей походкой, с черными волосами, большими глазами и прямым носом, идет по жизни, едва касаясь ее, и несет на своем челе неясную печать какого-то высокого жребия. Она была очень печальна и очень тиха, очень нежна и в то же время очень сдержанна, в ее обаянии было что-то леденящее, бросавшее в дрожь, - так вздрагивают в церкви от благоухания цветов, смешанного с холодом мрамора.
Никто не мог устоять против ее чар. Фармацевт говорил про нее:. Хозяйки восхищались ее расчетливостью, пациенты - учтивостью, беднота - сердечностью. А между тем она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти.
Под ее платьем с прямыми складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее стыдливые уста не выдавали мук. Эмма была влюблена в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе его образ, насладиться им без помех. С его появлением кончалось блаженство созерцания. Заслышав его шаги, Эмма вздрагивала, при встрече с ним ее волнение утихало и оставалось лишь состояние полнейшей ошеломленности, которую постепенно вытесняла грусть.
Когда Леон, в полном отчаянии, уходил от нее, он не подозревал, что она сейчас же вставала и смотрела в окно, как он идет по улице. Ее волновала его походка, она следила за сменой выражений на его лице; она придумывала целые истории только для того, чтобы под благовидным предлогом зайти к нему в комнату. Она завидовала счастью аптекарши, спавшей под одной кровлей с ним.
Мысли ее вечно кружились над этим домом, точно голуби из "Золотого льва", которые слетались туда купать в сточной трубе свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее становилось Эмме, что она любит, тем настойчивее пыталась она загнать свое чувство внутрь, чтобы оно ничем себя не обнаружило, чтобы уменьшить его силу. Она была бы рада, если б Леон догадался сам. Ей приходили в голову разные стечения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, душевная вялость, страх, а кроме того, стыд.
Ей казалось, что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже поздно, что все кончено. Но потом горделивая радость от сознания: "Я -- честная женщина", радость -- придав своему лицу выражение покорности, посмотреть на себя в зеркало, отчасти вознаграждала ее за принесенную, как ей казалось, жертву.
Веление плоти, жажда денег, томление страсти - все слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не могла не думать о нем - мысль ее беспрестанно к нему возвращалась, она бередила свою рану, всюду находила для этого повод.
Ее раздражали неаккуратно поданное блюдо, неплотно запертая дверь, она страдала, оттого что у нее нет бархата, оттого что она несчастна, от несбыточности своих мечтаний, оттого что дома у нее тесно. Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пытке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта его уверенность казалась обидной нелепостью, она расценивала ее как проявление черствости.
Ради кого она была так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на пути к счастью, ее злой долей, острым шпеньком на пряжке туго стягивавшего ее ремня? В конце концов она на него одного перенесла ту ненависть, которая накапливалась у нее в душе от многообразных огорчений, и малейшая попытка смягчить это чувство только обостряла его, оттого что бесплодное усилие становилось лишней причиной для отчаяния и еще больше способствовало отчужденности.
Собственная кротость возмущала ее. Серость быта вызывала мечты о роскоши, ласки супруга - жажду измены. Ей хотелось, чтобы Шарль побил ее, - тогда бы у нее было еще больше оснований ненавидеть его и мстить. Порой ее самое пугали те страшные мысли, что приходили ей на ум. А между тем надо было продолжать улыбаться, выслушивать рассуждения о том, как она счастлива, делать вид, что так оно и есть на самом деле, оставлять в этом заблуждении других!
Лицемерие это ей претило. Ее одолевал соблазн бежать с Леоном - все равно куда, только как можно дальше, и там начать новую жизнь, но в душе у нее тотчас разверзалась мрачная бездна.
От кого ждать помощи, участия, утешения? Из глаз ее катились слезы; обессилевшая, разбитая, она ловила ртом воздух и тихо всхлипывала.
Я с ней познакомилась в Дьеппе еще до того как поступила к вам. Она всегда была такая грустная, такая грустная! Станет на пороге - ну прямо черное сукно, что вешают у входа в день похорон. Это у нее, знать, такая болезнь была - что-то вроде тумана в голове, и никто ничего не мог поделать, ни доктора, ни священник. Когда уж очень лихо ей приходилось, она убегала к морю, в там ее часто видел при обходе таможенный досмотрщик: лежит ничком на гальке и плачет. Говорят, после свадьбы это у нее прошло.
Однажды вечером она сидела у открытого окна и смотрела, как причетник Лестибудуа подрезает кусты букса, но потом он вдруг исчез, и тотчас же зазвонил к вечерне колокол.
Это было в начале апреля, когда расцветают примулы, когда по разделанным грядкам кружится теплый ветер, а сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки далеко кругом было видно, какие затейливые излучины выписывает в лугах река.
Вечерний туман поднимался меж безлистых тополей, скрадывая их очертания лиловою дымкой, еще более нежной и прозрачной, чем тонкий флер, повисший на ветвях. Вдали брело стадо, но не слышно было ни топота, ни мычанья, а колокол все звонил, в воздухе по-прежнему реяла его тихая жалоба. Под этот мерный звон Эмма унеслась мыслью в давние воспоминания юности и пансиона. Ей припомнились высокие светильники на престоле, возвышавшиеся над цветочными вазами и дарохранительницей с колонками.
Ей хотелось замешаться, как прежде, в длинный ряд белых косынок, кое-где оттенявшихся черными, стоявшими колом капюшонами инокинь, которые преклоняли колена на скамеечки. За воскресной литургией она поднимала глаза от молитвенника и меж сизых клубов ладана, возносившихся к куполу, видела кроткий лик девы Марии.
На душу Эммы снизошло умиление. Она вдруг почувствовала, что она слаба и беспомощна, как пушинка, которую кружит вихрь. И, не рассуждая, направилась к церкви, -- она готова была дать любой обет, лишь бы на его исполнение ушли все ее душевные силы, лишь бы он поглотил ее всю без остатка.
На площади ей встретился Лестибудуа, только что спустившийся с колокольни. Он звонил к вечерне между делом, когда ему было удобнее: оторвется от своих занятий, позвонит, потом опять за дела. Кроме того, преждевременным благовестом он созывал мальчиков на урок катехизиса. Некоторые из них уже играли на могильных плитах в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали ногами, сбивая верхушки высокой крапивы, разросшейся между крайними могилами и низенькой каменной стенкой. Это был единственный зеленый уголок на всем кладбище; дальше шел сплошной камень, несмотря на метлу сторожа вечно покрытый мелкою пылью.
Мальчишки в матерчатых туфлях бегали по кладбищу, как будто это был настланный для них паркет, их крики покрывали гудение колокола. Звон ослабевал вместе с качаньем толстой веревки, конец которой, спускаясь с колокольни, волочился по земле.
Рассекая воздух своим режущим летом, с визгом проносились ласточки и мгновенно исчезали в гнездах, желтевших йод черепицей карниза. В глубине церкви горела лампада, попросту говоря - фитиль от ночника в подвешенной плошке. Издали свет ее можно было принять за мутное пятно, мерцающее поверх масла. Длинный луч солнца тянулся через весь корабль, и от этого все углы и боковые приделы казались еще сумрачнее.
В самом деле, дверь в доме священника скрипнула, и на пороге появился аббат Бурнизьен; мальчишки гурьбой кинулись в церковь. Он сунул катехизис в карман и, все еще раскачивая двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы, остановился.
Заходящее солнце било ему прямо в глаза, и в его свете лоснившаяся на локтях ластиковая сутана с обтрепанным подолом казалась менее темной. Широкую грудь вдоль ряда пуговок усеяли следы жира и табака; особенно много их было внизу, где от них не защищал нагрудник, на который свисали складки красной кожи, испещренной желтыми пятнами, прятавшимися в щетине седеющей бороды. Священник громко сопел - он только что пообедал. Enfin, que voulez-vous! Mais, M. Ну да ничего не поделаешь!
Мы рождены для того, чтобы страдать, - так нас учит апостол Павел. А как смотрит на ваше самочувствие господин Бовари? Священник между тем все поглядывал, что делают в церкви мальчишки, а мальчишки, стоя на коленях, толкали друг Друга плечом и потом вдруг падали, как карточные домики. Я тебе уши нарву, сорванец! Родители у него зажиточные, вот они его и балуют. А так малый способный, был бы хорошим учеником, если б не лень.
Я иногда в шутку называю его Наблудэ, Ха-ха-ха! Вечно он что-нибудь наблудит, напроказит Недавно я рассказал про это владыке, так он посмеялся Но только он врачует тело, а я - душу! Toutes leurs vaches, je ne sais comment Mais, pardon! Longuemarre et Boudet! Не далее как сегодня утром мне пришлось идти в Ба-Дьовиль из-за коровы: ее раздуло, а они думают, что это от порчи. Нынче с этими коровами прямо беда Одну минутку!
Лонгмар и Будэ! Да перестанете вы или нет, балбесы вы этакие? Ребята в это время толклись вокруг высокого аналоя, влезали на скамеечку псаломщика, открывали служебник; другие крадучись уже подбирались к исповедальне. Неожиданно на них посыпался град оплеух. Священнослужитель хватал их за шиворот, отрывал от пола, а потом с такой силой ставил на колени, точно хотел вбить в каменный-пол.
И я знаю случаи, когда у несчастных матерей, добродетельных, ну просто святых женщин, не было подчас куска хлеба. По-моему, если человек живет в тепле, в сытости Идите-ка домой, госпожа Бовари, выпейте чайку для бодрости или же холодной воды с сахаром. Je ne sais plus. И ее блуждающий взгляд задержался на старике в сутане. Оба молча смотрели друг на друга в упор. Ces pauvres enfants! Мне пора заняться с моими шалопаями. Скоро день их первого причастия. Боюсь, как бы они меня не подвели!
Поэтому с самого Вознесения я регулярно каждую среду задерживаю их на час. Ох, уж эти дети, дети! Надо как можно скорее направить их на путь спасения, как то заповедал нам сам господь устами божественного своего сына. Будьте здоровы, сударыня! Кланяйтесь, пожалуйста, вашему супругу! Эмма смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду: растопырив руки, склонив голову чуть-чуть набок, он тяжело ступал между двумя рядами скамеек.
Затем она повернулась, точно статуя на оси, и пошла домой. Но еще долго преследовал ее зычный голос священника и звонкие голоса мальчишек:.
Держась за перила, Эмма поднялась на крыльцо и, как только вошла к себе в комнату, опустилась в кресло. В окна струился мягкий белесоватый свет. Все предметы стояли на своих местах и казались неподвижней обычного, - они словно тонули в океане сумерек.
Камин погас, маятник стучал себе и стучал, и Эмма бессознательно подивилась, как это вещи могут быть спокойны, когда в душе у нее так смутно. Между окном и рабочим столиком ковыляла в вязаных башмачках маленькая Берта; она пыталась подойти к матери и уцепиться за завязки ее передника.
Немного погодя девочка еще ближе подошла к ее коленям. Упершись в них ручонками, она подняла на мать большие голубые глаза; изо рта у нее на шелковый передник Эммы стекала прозрачная струйка слюны. Берта упала около самого комода и ударилась о медное украшение; она разрезала себе щеку, показалась кровь. Г-жа Бовари бросилась поднимать ее, позвонила так, что чуть не оборвала шнурок, истошным голосом стала звать служанку, проклинала себя, но тут вдруг появился Шарль.
Он пришел домой обедать. Berthe, en effet, ne sanglotait plus. Sa respiration, maintenant, soulevait insensiblement la couverture de coton. Госпожа Бовари не вышла в столовую - ей хотелось остаться здесь и поухаживать за ребенком.
Она смотрела на уснувшую Берту, последние остатки ее тревоги мало-помалу рассеялись, и Эмма подумала о себе, что она очень глупа и очень добра, иначе бы не стала расстраиваться по пустякам.
В самом деле, Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце чуть заметно шевелилось теперь от ее дыхания. В углах полузакрытых ввалившихся глаз стояли крупные слезы; меж ресниц видны были матовые белки; липкий пластырь натягивал кожу поперек щеки.
Вернувшись из аптеки в одиннадцать часов вечера он пошел туда после обеда отдать остаток пластыря , Шарль застал жену подле детской кроватки.
В тот вечер он засиделся у аптекаря. Хотя он и не имел особенно расстроенного вида, все же г-н Оме старался ободрить его, "поднять его дух". Разговор зашел о различных опасностях, грозящих детям, о легкомыслии прислуги. Г-жа Оме знала это по опыту - на груди у нее так и остались следы от горящих углей, давным-давно упавших ей за фартук с совка, который держала кухарка. Вот почему нежные родители г-н и г-жа Оме были особенно осторожны.
Ножи у них в доме никогда не точились, полы не натирались. Окна были забраны железной решеткой, камины Ограждены решеточками из толстых прутьев. Дети Оме пользовались самостоятельностью, и тем не менее за каждым их шагом зорко следили; при малейшей простуде отец поил их микстурами от кашля, лет до пяти их заставляли носить стеганые шапочки.
Правда, это была уже мания г-жи Оме; супруг ее в глубине души был недоволен, - он боялся, как бы давление шапочек на мозг не повлияло на умственные способности; иной раз он даже не выдерживал и говорил:. Il avait des battements de coeur et se perdait en conjectures. Сердце у него сильно билось, он терялся в догадках. Затворив за собой дверь, Шарль обратился к нему с просьбой разузнать в Руане, сколько может стоить хороший дагерротип; он хочет сделать жене трогательный сюрприз в знак особого внимания - сняться в черном фраке и преподнести ей свой портрет.
Но только прежде надо бы "прицениться". Шарль, однако, надеется, что это поручение не затруднит г-на Леона, - все равно он почти каждую неделю ездит в город. Dans quel but? Оме подозревал тут "проказы ветреной молодости", какую-нибудь интрижку. Но он ошибался: никаких любовных похождений у Леона не было.
Никогда еще он так не грустил. Г-жа Лефрансуа судила об этом по тому, как много еды оставалось у него теперь на тарелках.
Чтобы дознаться, в чем тут дело, она обратилась за разъяснениями к податному инспектору; Бине сухо ответил ей, что он "в полиции не служит". Впрочем, и на Бине его сотрапезник производил весьма странное впечатление, - Леон часто откидывался на спинку стула и, разводя руками, в туманных выражениях жаловался на жизнь. Безответная любовь истомила Леона; к душевной усталости приметалось еще уныние, порожденное однообразием бесцельного, беспросветного существования.
Ему до того опостылели Ионвиль и его обитатели, что он уже видеть не мог некоторых знакомых, некоторые дома. Фармацевта, несмотря на все его добродушие, он буквально не выносил. А между тем перемена обстановки не только прельщала, но и пугала его. Впрочем, боязнь скоро уступила место нетерпению; Париж издалека манил его к себе музыкой на балах-маскарадах и смехом гризеток.
Ведь ему все равно необходимо закончить юридическое образование, - так что же он не едет? Кто ему мешает? И он стал мысленно готовиться к отъезду. Он заблаговременно обдумал план занятий. Решил, как именно обставить комнату. Он будет вести артистический образ жизни! Будет учиться играть на гитаре! Заведет халат, баскский берет, голубые бархатные туфли! Он представлял себе, как он повесит над камином две скрещенные рапиры, а над рапирами - гитару и череп.
Elle y consentit. Главная трудность заключалась в том, чтобы получить согласие матери; в сущности же, это был в высшей степени благоразумный шаг. Даже сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы найти себе более широкое поле деятельности. Леон принял сначала компромиссное решение, стал искать место младшего помощника нотариуса в Руане, но не нашел и только после этого написал матери длинное письмо, подробно изложив причины, по которым ему необходимо было немедленно переехать в Париж.
Мать согласилась. Леон не спешил. В течение месяца Ивер каждый день возил ему из Ионвиля в Руан, из Руана в Ионвиль сундуки, чемоданы, тюки, но, пополнив свой гардероб, перебив свои три кресла, накупив уйму кашне, словом, приготовившись так, как не готовятся и к кругосветному путешествию, он потом стал откладывать отъезд с недели на неделю -- до тех пор, пока не пришло второе письмо от матери, в котором она торопила его, ссылаясь на то, что сам же он хотел сдать экзамены до каникул.
Когда настал час разлуки, г-жа Оме заплакала, Жюстен зарыдал; один лишь г-н Оме, будучи человеком мужественным, сдержался, - он только изъявил желание донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который вызвался отвезти Леона в Руан в своем экипаже.
Времени у Леона оставалось в обрез, только чтобы успеть проститься с г-ном Бовари. Взбежав по лестнице, он так запыхался, что принужден был остановиться. Как только он вошел, г-жа Бовари встала.
Эмма кусала себе губы; кровь прилила у нее к лицу, и она вся порозовела - от корней волос до самого воротничка. Она продолжала стоять, прислонившись плечом к стене. Alors il y eut un silence. Наступило молчание. Они смотрели друг на друга, и мысли их, проникнутые одним и тем же тоскливым чувством, сближались, как два трепещущих сердца.
Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала Фелисите. Леон пробежал глазами по стенам, по этажеркам, по камину, точно хотел проникнуть всюду, все унести с собой. Но Эмма вернулась, а служанка привела Берту, - девочка дергала веревку, к которой была вверх ногами привязана игрушечная ветряная мельница. Прощай, дорогая крошка, прощай! Они остались одни. Госпожа Бовари повернулась к Леону спиной и прижалась лицом к оконному стеклу; Леон тихонько похлопывал фуражкой по ноге.
Она снова повернулась к нему; голова у нее была опущена, свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до самых надбровных дуг, и никто бы не мог догадаться, что высматривала она сейчас на горизонте, что творилось у нее в душе.
Пальцы Леона коснулись ее, и в эту минуту у него было такое чувство, точно все его существо проникает сквозь ее влажную кожу.
Дойдя до крытого рынка, он спрятался за столб, чтобы в последний раз поглядеть на белый дом с четырьмя зелеными жалюзи. Ему показалось, что за окном, в комнате, мелькнула тень. Но тут вдруг занавеска как бы сама отцепилась и, медленно шевельнув своими длинными косыми складками, отчего они сразу разгладились, распрямилась и осталась неподвижной, точно каменная стена.
Леон бросился бежать. Homais et M. Guillaumin causaient ensemble. Он издали увидел на дороге кабриолет патрона; какой-то человек в холщовом фартуке держал лошадь под уздцы. Г-н Гильомен разговаривал с Оме. Леона ждали. Смотрите не простудитесь! Следите за собой! Берегите себя! Оме перегнулся через крыло экипажа и сдавленным от рыданий голосом проронил печальные слова:. Оме повернул обратно.
Скопляясь на западе, в стороне Руана, они быстро развертывали свои черные свитки, длинные лучи солнца пронзали их, точно золотые стрелы висящего трофея, а чистая часть неба отливала фарфоровой белизной.
Внезапно налетевший ветер пригнул тополя, и полил дождь; капли его зашуршали по зеленой листве. Потом опять выглянуло солнце, запели петухи, захлопали крылышками в мокрых кустах воробьи, по песку побежали ручейки, унося с собой розовые лепестки акации. Puis, se tournant sur sa chaise :. Pas grand-chose. Vous savez, les femmes, un rien les trouble!
Вот только жена моя сегодня расстроилась. Ох, уж эти женщины: любой пустяк может их взволновать. А про мою жену и говорить нечего! Тут уж ничего не поделаешь - нервная система у женщин гораздо чувствительнее нашей.
Приживется ли он там? Все пойдет как по маслу, можете мне поверить! А вы не представляете себе, что вытворяют эти повесы в Латинском квартале со своими актрисами! Впрочем, к студентам в Париже относятся превосходно. Те из них, кто умеет хоть чем-нибудь развлечь общество, приняты в лучших домах. В них даже влюбляются дамы из Сен-Жерменского предместья, и они потом очень удачно женятся. Там надо ох как беречь карманы! Вот вы, предположим, гуляете в увеселительном саду.
Появляется некто, хорошо одетый, даже с орденом, по виду - дипломат, подходит к вам, заговаривает, подлаживается, предлагает свою табакерку, поднимает вам шляпу. Вы уже подружились, он ведет вас в кафе, приглашает к себе в имение, за стаканом вина знакомит с разными-людьми, и в семидесяти пяти случаях из ста все это только, для того, чтобы стянуть у вас кошелек или вовлечь в какое-нибудь разорительное предприятие. А потом, знаете ли, парижская вода!
Ресторанный стол! Вся эта острая пища в конце концов только горячит кровь. Что ни говорите, а хороший бульон куда полезнее! Я лично всегда предпочитал домашнюю кухню - это здоровее! Поэтому, когда я изучал в Руане фармацевтику, я был на полном пансионе, я столовался вместе с профессорами.
Аптекарь продолжал высказывать суждения общего характера и толковать о своих личных вкусах, пока за ним не пришел Жюстен и не сказал, что пора делать гоголь-моголь.
Je ne peux sortir une minute! На один миг нельзя отлучиться! Трудись до кровавого пота, как рабочая лошадь! Хомут нищеты! Буало [81] , считавшемся последним словом в основах стихосложения. Для Рембо шарлевильский коллеж был сценой.
На шестичасовом региональном конкурсе года, в котором он победил, с 6 до 9 утра он, казалось, спал за своей партой, не написав ничего. Нервные расспросы директора увенчались информацией, что Рембо пропустил завтрак. Послали консьержа за корзиной продуктов. Рембо неспешно поел, затем склонился над партой и за несколько минут до полудня вручил свое стихотворение — полновесное и безупречное.
Директор восхищался этим подвигом и сорок лет спустя [82]. Странно, но Рембо, кажется, ничего не говорил о своих самых впечатляющих достижениях. Одно из его стихотворений появилось в «настоящем» журнале Revue pour tous «Журнал для всех» , одном из тех, что можно найти на любом журнальном столике.
Это была тщательно выверенная душераздирающая история, написанная по-французски александрийским стихом. Хотя в большинстве изданий это стихотворение считается первым стихом Рембо, оно явно было шедевром его раннего творчества, единственным сохранившимся вариантом из нескольких проб [83]. В Рождество двух брошенных сирот во сне посетил ангел. Проснувшись, они, вне себя от радости, обнаруживают похоронный венок своей матери.
Очевидно, они ошибочно принимают венок за рождественский подарок, хотя это не вполне ясно при первом и даже при втором прочтении. Галлюцинаторный опус Рембо о лоноподобном шкафе — это собрание цитат из его любимых поэтов: уютного сентиментального Гюго, образного Бодлера и некоторых других популярных поэтов, теперь совершенно забытых:.
Рембо старательно вырабатывал эмоциональное состояние, эксплуатируя образы вечеров у камина, бабушек с прялками и хворающих детей. Пристрастие к картинкам в викторианском духе, словно срисованным с коробок с шоколадными конфетами, оставалось у Рембо на удивление долго. Возможно, он стремился к подобному эффекту и в более поздних стихах, которые кажутся слишком язвительными или интеллектуальными. В возрасте пятнадцати лет у Рембо было больше поклонников, чем друзей.
Его мастерство писателя сделало его ценным членом учреждения, зеницей ока директора, который вынужден был смириться с тем, что удостоенный наград ученик пренебрегал математикой, читал неподходящие книги, отращивал волосы или, как случилось однажды, бросал свой словарь в одноклассника.
Фредерика, уличенного в «преступлении» — создании карикатуры на учителя истории, принимающего ванну «без фигового листка», не выгнали из коллежа лишь благодаря заслугам младшего брата. Его считали «ленивым и с плохим характером», но директор был «склонен к снисходительности», как докладывал школьный инспектор: «Брат этого приходящего школьника — лучший ученик в школе, молодой Raimbaud [sic], один из наших призеров. Его изгнание, несомненно, повлечет уход его брата и будет самой печальной потерей для школы» [84].
Первые признаки открытого ниспровержения в произведениях Рембо фактически выдают желание утвердить свое место в школьном сообществе.
В попытке убедить императорскую власть в своем бесстрашном консерватизме и, возможно, сэкономить на зарплате учителей шарлевильского коллежа, был заключен альянс с соседней семинарией.
Старшие мальчики, которые учились на священников, теперь посещали уроки вместе со «сбродом» из города. Каждый класс стал маленькой моделью французского парламента: напряженное сожительство репрессивных клириков и реформаторов-либералов [85]. Этот опыт совместного обучения указывает, насколько незначительными были различия в программах. Соученичество привело к тому, что семинаристы стали более пафосными и елейными, они пристрастились к нюхательному табаку и анализировали уроки своих учителей в поисках идеологических неточностей.
Светские ученики стали более вульгарными, курили сигареты и высказывали атеистические и либеральные идеи. Как единственный мальчик, который мог побороть семинаристов в учебном бою, Рембо становится чемпионом коллежа. Без него церемония награждения была бы ежегодным унижением для «светских». В году он получил восемь первых наград, в том числе и за религиозные дисциплины.
Он также покрыл себя славой, поставив в неловкое положение учителя истории, аббата из семинарии. Он терзал его вопросами по поводу позиции современной церкви о религиозных войнах, резни в день Святого Варфоломея и инквизиции [86]. Первая награда Артюра по истории была, очевидно, вполне заслуженной. Пожалуй, неудивительно, что в году список его наград семь первых был «запятнан» четвертым местом по истории.
Рембо быстро вырастает из учебного плана. Фраза в одном из его сочинений распространила небольшую ударную волну по школе: «Марат и Робеспьер, молодость ждет вас! Через две недели после того, как стихотворение Рембо появилось в Revue pour tous «Журнал для всех» , в шарлевильский коллеж прибыл новый учитель.
Жоржу Изамбару было всего двадцать два года. До этого он преподавал в школе в старом доме Виктора Гюго в Париже, и у него были странные идеи по поводу обучения: он полагал, что мальчики могли бы учиться и без скуки. По прибытии директор проинформировал его о том, что ему будет доверен непростой, но очень ценный для школы ученик по имени Артюр Рембо. В исключительном порядке Рембо следует позволять читать все, что ему понравится [88].
В ученике с наградами, как оказалось, уживались две совершенно разные личности. В классе он был «закрытым и сдержанным» маленьким джентльменом, который никогда не пачкал своих тетрадей. Вне школы он был «истинным интеллектуалом», «трепещущим от лирической страсти» и двух дополняющих друг друга амбиций: стать поэтом и освободиться от своей матери [89]. Каждый день Изамбар находил, что Рембо ждет его после уроков со своими аккуратно переписанными стихами.
Первым стихотворением была «Офелия». Удивительное произведение для пятнадцатилетнего демонстрировало редкую способность создавать удивительные эффекты из однообразия и вливать в обычные фразы настоящие чувства.
Критики восхищались ею не как типичным стихом Рембо, а как результатом тщательно продуманной торговой экспедиции, одой потребителя, который платит тяжелую дань культуре своего времени. Вдохновлено оно было скорее стихотворением Банвиля и живописным полотном Милле, чем «Гамлетом», заданным для самостоятельного изучения. Неловкая высокопарность последних строф делает зловещую мысль относительно безобидной: идея, что спящую погубили ее видения. Изамбар был в восторге, что обнаружил «первоклассный мозговой механизм» [90] , но никогда не притворялся, что признавал в Рембо будущего поэта.
Стихотворчество было обычным подростковым занятием и не могло стать основой разумной профессии. Мозг Артюра Рембо был нацелен на академическую славу — мозг, который требовал пищи. Изамбар одалживал ему книги из личной библиотеки, Рембо возвращал их почти сразу же, прочитав и переварив. Буду вам очень обязан. Они были бы очень полезны для меня».
Отчасти список прочитанных Рембо книг можно реконструировать, изучая его ранние тексты. За «Офелией» последовало Sensation «Предчувствие» — еще одно произведение, включаемое в антологии: стихотворение о прогулках летними вечерами, написанное ранней весной, схожее по духу и стилю со стихотворением Виктора Гюго о прогулках на рассвете к могиле дочери.
В отличие от Гюго Рембо позволял себе отвлекаться на свое тело:. Это крошечное стихотворение, которое разрастается, словно мираж в море молчания, является значительным достижением французской поэзии середины XIX века, необычный побег от глухого стука риторической техники.
Тема блаженного беспамятства, кажется, подтверждает утверждение Изамбара о том, что Рембо писал стихи, чтобы отдохнуть от ежедневного рутинного школьного однообразия [92] , но самое удивительное в этих ранних стихах — их автобиографичность. Рембо относился к французской поэзии как к личному будуару, облачаясь в разные жанры, отслеживая свое развитие в зеркалах других поэтов.
Главным источником моделей Рембо была престижная антология под названием Le Parnasse contemporain «Современный Парнас» , которая впервые появилась в году.
Она публиковалась частями, некоторые из которых Рембо удалось контрабандой пронести в секретное хранилище на чердаке.
В истории литературы поэты-парнасцы представляли собой рассеянное созвездие звезд низшей величины, с которыми короткое время были связаны растрепанные кометы и ослепительные сверхновые — Гюго, Бодлер и Малларме.
Его можно рассматривать как реакцию на провал романтического социализма в июне года и последующее торжество буржуазной Второй империи. Его девизом было «бесстрастность» — в противоположность «вдохновению».
Строгое совершенство формы считалось гарантией эстетического превосходства. Темы, как правило, бывали экзотическими и удобно аполитичными. Отчасти именно это неприятие современности придает выверенным красотой стихам признанного лидера школьной литературы Леконта де Лиля навязчивую скуку. Но как только появились хитрые подделки Рембо, суровые склоны «Парнаса» резко выступили из загадочного болота подавляемых эмоций.
Привязанность к правильности формы имела очевидную привлекательность, как для школьника, который пользовался школьными упражнениями, так и для поэта, который хотел попробовать себя в различных ипостасях. К тому же это был случай, когда все, кто хотел увидеть свои работы опубликованными в известном литературном обозрении, должны приложить все старания, чтобы по возможности звучать как парнасец.
Credo in unam в дальнейшем переименованное в «Солнце и плоть» было длинной, восторженной одой на популярную тему языческого золотого века, когда «был счастлив Человек», «блаженно припадая» к «святой груди» Природы:. Этот дохристианский рай противопоставляется современному веку с его «рабством грязным»:. Рембо послал свое стихотворение не возвышенному Леконту де Лилю, а благодушному представителю «Парнаса», Теодору де Банвилю, который любил молодых поэтов, публикуемых в либеральной прессе, и был близким другом Бодлера.
Рембо утверждал, что ему семнадцать лет ему было лишь пятнадцать с половиной , и приложил свою «Офелию» и стихотворение о летних вечерах. Письмо, искрящееся подростковым энтузиазмом и типично журналистскими недомолвками, датировано 24 мая года.
Почерк ровный, но с изящными завитушками:. Я клянусь, дорогой мэтр, что всегда буду поклоняться двум богиням — Музе и Свободе. Пожалуйста, не воротите нос от этих строк… Вы доставили бы мне невероятную радость и дали надежду, если бы, дорогой мэтр, вы смогли найти Credo in unam небольшое местечко среди парнасцев… Появись я в последнем выпуске «Парнаса», это стало бы Credo поэтов!.. О, безумное честолюбие!
Затем он переписал свои стихи и, прибегнув к олимпийскому стилю Виктора Гюго, сделал последнее обращение в постскриптуме:. Все поэты — братья. Эти строчки верят, любят, надеются, — и этим все сказано. Банвиль сохранил стихи и, наверное, послал вежливую записку ободрения, но для неизвестного провинциального школьника в «Современном Парнасе» места не нашлось.
Рембо был неустрашим. В любом случае его стихотворчество показало, что он уже перерос парнасцев. Изамбар был почти встревожен своим восхищением. Улучшив собственную технику, подражая парнасцам, Рембо теперь отправился по пути умышленного разрушения, которое повлекло удивительные открытия.
Первым признаком его новой манеры в начале лета года был неправильный, кособокий сонет, в котором идеал парнасцев языческой красоты подвергся отвратительной трансформации. Как усы Марселя Дюшана у Моны Лизы, язва Рембо у богини Красоты олицетворяет отход от классического прошлого и конец невинности [96].
Рембо прошел через поэтическое половое созревание с угрожающей скоростью. В июле он представил своему учителю короткий рассказ, который, казалось, принадлежит совсем к другой традиции — традиции, которая бытует не в книгах, а на стенах общественных туалетов. Изамбар нашел ее «детской, глупой и грязной» [97]. Многие издания произведений Рембо опускают его совсем или низводят до приложений.
Вы презрели эти мирские украшения». Оно может быть прочитано как легкомысленный фарс, политическая сатира или расценено как саркастическое лечение подростковой сексуальности: «Я уселся на мягкий стул, подумав, что некая часть меня готова впечататься в вышивку, которую Тимотина, наверное, сделала своими руками».
Оно также может быть прочитано как префрейдистский анализ языковой группы — псевдорелигиозный жаргон шарлевильских семинаристов и ранних французских романтиков: баб и педерастов, по мнению Рембо, чьи «таинственные испарения» и «нежные зефиры» — симптомы того, что сейчас называют анальнонавязчивая идея. Рембо проверял пределы широты взглядов Изамбара. До сих пор новый учитель казался идеальным старшим братом — тем, кто дарит критику и любовь, не ожидая многого взамен. Будет ли он продолжать быть ему другом, когда заглянет вглубь мозга своего ученика?
Но Рембо размышлял и о своей личности в детские годы: «мелкий ханжа такой-растакой». Стихотворчество дает уму возможность воздействовать на себя. Он уже пересматривает свои первые стихи, подвергая себя лечению пародией. Его аннотированная копия «Современного Парнаса» которую позже он подарил другу [98] , показывает, что, вместо того чтобы подражать стихам, которые его восхитили, он был склонен переделывать стихотворения, которые показались ему неуклюжими или бессмысленными.
В отрывке ныне забытой мадам Бланшекот строчка «Моя последняя печаль фр. Когда этот прием был применен к его собственным стихам, тот же прием вызвал своего рода мгновенную оригинальность: даже самая слабая строфа обрела звучание, похожее на внезапное озарение. Эти маленькие уловки являются серьезными предвестниками новой эстетической эры, когда финальное произведение возникает из уничтожения предыдущих черновиков, нелепых и пробуждающих воспоминания.
В школе Рембо тоже становится почти опасным знатоком. Апрельский выпуск «Вестника среднего, специального и классического образования» года был практически целиком посвящен Артюру Рембо. В нем содержатся четыре его произведения. Одним из них был дерзкий перевод на французский отрывка из Лукреция — дерзкий, потому что Рембо взял новый перевод De natura rerum «О природе вещей» , выполненный парнасцем Сюлли-Прюдомом, скопировал соответствующий пассаж, улучшил его несколькими сделанными со вкусом изменениями и вручил в качестве собственной работы, тем самым насмехаясь над своими учителями, заслужив тем не менее их похвалу.
Плагиат оставался незамеченным до года. Другая заметная работа была криминальной в ином смысле: латинская адаптация французского текста об Иисусе в мастерской отца.
Указанный отрывок с напускной скромностью сравнивает кровь от тривиальной раны в столярной мастерской с кровью Страстей. Версия Рембо была названа «благочестивой», «безупречной» и «поучительной» [99]. На самом деле, как показал Джордж Такер, она демонстрирует поразительное чутье сексуального подтекста на латыни. Иисус Христос работает тяжелым рубанком до тех пор, пока не забрызгивает себя кровью, и получает любящее внимание своей матери [].
Здесь, как и в «Сердце под сутаной», существует тонкая грань между пародией и самоанализом. Даже если Рембо забавлялся, представляя страстные кровосмесительные отношения между Девой Марией и ее сыном, он также экспериментировал с хаотической силой языка: несколько неясностей — и вся картина может измениться, как пейзаж, который заволокло туманом.
Возможно, он начал размышлять о тайной любви своей матери.
Очень жаль, что Эрнест Делаэ вспомнил только первую и последнюю строки биографического стихотворения Рембо, которое тот показал ему в году:.
Однажды его подвели меры безопасности, и обнаружился компрометирующий предмет. Я чрезвычайно признательна вам за все, что вы делаете для Артюра. Вы даете ему щедрые советы и дополнительные внеклассные задания. На подобное внимание мы не имеем никакого права. Но есть нечто, чего я не могу одобрить, например, чтение книг, вроде той, что вы дали ему несколько дней назад «Отверженные» V.
Hugot [sic! Вы должны знать лучше меня, месье, что следует проявлять большую осторожность в выборе книг, которые должны быть предложены детям.
По этой причине я полагаю, что Артюр, должно быть, взял эту книгу без вашего ведома. Было бы, конечно, опасно разрешать ему подобное чтение». Поскольку «Отверженные» были в списке запрещенных книг, она, наверное, не читала эту книгу, иначе бы знала, что главный герой был беглым каторжником, ничем не отличающимся от бродяги дяди Шарля.
Но останавливать разложение стало слишком поздно. У Артюра уже вошло в привычку разговаривать с незнакомыми людьми, которых он встречал по дороге, — землекопами, рабочими каменоломен и бродягами. Даже когда они были пьяны, говорил он Делаэ, они ближе к природе и, поистине, более интеллектуальны, чем образованные лицемеры его собственного класса [].
Это были люди, которые, как капитан Рембо, могли отправиться в путь и больше не вернуться. Как видно из отрывков «Одного лета в аду», эти западные кочевники стали для Рембо ролевыми моделями и настойчиво занимали его фантазии. Его глазами я смотрел на небо и на расцветающую в полях работу; в городах я искал следы его рока. У него было больше силы, чем у святого, и больше здравого смысла, чем у странствующих по белу свету, — и он, он один, был свидетелем славы своей и ума».
Мадам Рембо была не одинока в опасениях губительных влияний. Победа, как предполагалось, будет стремительной и всеобщей. Вся страна, в том числе и недовольные республиканцы, мысленно объединятся в состоянии войны, уверенные в своей правоте. Империя будет спасена. В то лето жители города Шарлевиля стояли на порогах, подбадривая храбрых солдат, когда те отправлялись на фронт за победой с криками: «На Берлин! Он двинулся в путь не попрощавшись. Несмотря на несовершеннолетие, Фредерик умудрился поступить в полк и провел следующие несколько месяцев, попав в ловушку прусской армии в Меце [].
Артюр облил своего милитаристского брата презрением. Он уже отказывался носить новую военизированную школьную форму, и, когда его товарищи-соученики пафосно заявили о своем намерении пожертвовать деньги от продажи призовых книг на военные нужды, отказался участвовать в этой затее []. Это был серьезный удар, поскольку Рембо был единственным учеником в своем классе, который завоевывал награды. Он тем не менее согласился продать свои книги предложившему наивысшую цену. Для Рембо этот простодушный шовинизм был общенациональной эпидемией ограниченной провинциальности.
Любой поэт, казалось ему, должен быть против империи. Поэтому Делаэ удалось завоевать его доверие, когда тот пересек бельгийскую границу, вошел в кафе и заучил наизусть отрывки из последних La Lanterne «Фонарь» [] — карманного журнала с кроваво-красной обложкой, который был запрещен во Франции из-за подстрекательства к мятежу и изображения Наполеона III карикатурным идиотом.
Книжные лавки Шарлевиля были плохим источником подрывной литературы. Рембо вооружился своим талантом и написал дерзкое песенное стихотворение о ласках мальчика и девочки Trois baisers «Три поцелуя» , которое он послал в беспощадный сатирический журнал La Charge.
Стихотворение было напечатано 13 августа года и принесло ему бесплатную подписку []. Когда объявили войну, он добавил тупой жаргонной риторики республиканской пропаганды в свой литературный арсенал и посвятил два стихотворения Le Forgeron «Кузнец» и Morts de Quatrevingt-douze «Французы, вспомните, как в девяносто третьем…» героям Французской революции, этим «ста тысячам мертвецов с глазами Иисуса» []. Поскольку, казалось, было предрешено, что Франция разгромит врага в течение нескольких недель и консолидирует империю, эти стихи вряд ли были кратчайшим путем к литературной карьере.
Но когда он в конце концов добрался до Парижа, — первое, что он намеревался сделать, как он говорил Изамбару, даже если это означало «умереть под грудой камней» по дороге, — войти в идеальное общество «братьев» поэтов. Оно, несомненно, примет его за того, кем он был. Рембо снова был первым в региональном экзамене на этот раз с произведением под названием «Санчо Панса оплакивает своего мертвого осла» не опубликованным из-за войны и ныне утраченным.
Награждение 6 августа было в значительной степени делом местной буржуазии, приветствующей Артюра Рембо овациями. Но Изамбара не было там, чтобы увидеть, как его ученик усмехается этим аплодисментам. Он уехал 24 июля в дом своих тетушек в Дуэ. Рембо был в предвкушении долгого и иссушающего лета. К счастью, Изамбар сказал Владельцу, чтобы тот давал Рембо ключ от его квартиры.
Каждый день он отправлялся посидеть в бассейне книг Изамбара, словно запекшаяся губка. К тому времени, когда он написал своему учителю 25 августа, он впитал в себя всю библиотеку и уже перечитывал книги, которые не показались ему особенно интересными с первого раза.
Стремительность, с которой читал Рембо, как правило, скрывает то стремление обрести энциклопедические знания, которое литературно роднит его с Бальзаком. Идея была не в том, чтобы постепенно накапливать знания, а в том, чтобы поглотить и переварить все как можно быстрее, даже если это закончится отрыжкой и несварением. Несколько недель спустя он нашел идеальный образ для своей работы в эссе Монтеня и стал декламировать его всем, кто хотел слушать:.
Этому было дано хорошее описание в его письме к Изамбару. Конверт был помечен: «Очень спешно». Вам повезло, что вы больше не живете в Шарлевиле!
Мой родной город не уступает по глупости всем остальным провинциальным городкам []. Больше я не питаю никаких иллюзий на этот счет. Удивительное зрелище представляют собою все эти нотариусы, стекольщики, сборщики податей и краснодеревщики — все эти пузаны, патриолирующие [qui font du patrouillotisme] ворота Мезьера.
Мое Отечество поднимается на дыбы! Лично я предпочитаю видеть его сидящим. Не взбалтывай себя — вот мой девиз. Я дезориентирован, болен, раздражителен, глуп и растерян. Я мечтал о солнечных ваннах, бесконечных прогулках, отдыхе, путешествиях, приключениях — цыганщине. Я особенно надеялся на некоторые газеты и книги. Абсолютно ничего! Почта прекратила доставку книгопродавцам. Париж действительно обращается с нами как с убогими: ни одной новой книги!
Что касается газет, я унизился до почтенного Courrier des Ardennes «Арденнского вестника». Можете себе представить! Убийственно потрясающе!.. Изгнанники в собственной стране!!! После эмоционального изображения этой картины разочарования Рембо скопировал большой отрывок вязко сентиментального стиха Луизы Зайферт о бездетной молодой женщине.
Одна строка была отмечена его восхищением: «Жизнь моя в восемнадцать лет уже имеет целое прошлое». На самом деле он нашел это высказывание в предисловии редактора и скопировал его слово в слово. Он также успел прочитать «весьма странную и забавную» книгу стихов молодого парнасца, Поля Верлена — поэта, который не боится нарушать давно установленные правила французского стихосложения. Странные вещи происходят в литературной столице…. Пришлите мне страничное письмо, — poste restante до востребования — и сделайте это живее!
Загадочный постскриптум намекал на какую-то эскападу: «Скоро буду посылать вам откровения о жизни, которую я собираюсь вести… после каникул…». День или два спустя Рембо собрал несколько книг и отнес их к торговцу подержанными книгами. На этот раз вместо того, чтобы обменять их на новые, он попросил наличные и вернулся домой, загадочный и полный решимости.
Между тем ушедшие на покой бакалейщики Шарлевиля стали проявлять все меньше энтузиазма по поводу их «патриолирования». Отступающие вразброд солдаты входили в город, выжившие в самой неумелой военной кампании в современной истории Франции. Шарлевильский коллеж был превращен в госпиталь. Погода была хорошая, но слышались отзвуки далекого грома.
В 18 километрах к востоку, в Седане, больной Наполеон III смотрел на прусскую артиллерию через дымку ружейных выстрелов и опиума. Его прекрасная армия была разбита. На шарлевильском вокзале путешественников информировали о том, что на юге пруссаки разобрали пути.
Все желающие попасть в Париж должны сесть на поезд, идущий в обратном направлении до Шарлеруа Бельгия , и затем пересесть на линию Сен-Кантен. В вагоне третьего класса маленький мальчик прятался под сиденьем, наблюдая за контролером, проверяющим билеты.
На свои последние франки он купил билет до Сен-Кантена, но поезд миновал станцию Сен-Кантен несколько часов назад. Теперь он достиг «военной зоны», где дороги были запружены повозками семейств, оставивших свои деревни врагу и держащих путь на запад. Скоро поезд войдет в гравитационное поле огромного города, неисчерпаемую сокровищницу книг и газет, города, где живут поэты.
На Северном вокзале Рембо выбрался из вагона и смешался с толпой, которая направлялась к выходу. Увлекаемый потоком пассажиров, он продвигался по перрону. Двое мужчин в форме железнодорожных служащих спросили у него билет. Его отвели в сторону и обыскали: подозрительный маленький тип с длинными волосами, в грязной, но респектабельной одежде.
Он говорил с акцентом, который может быть иностранным. В его карманах, как оказалось, лежали непонятные заметки, написанные строками разной длины.
Легенда о том, что он был заподозрен в шпионаже, вполне правдоподобна. Прессу наводнили сообщения о попытках переворота и политических агитаторах, возвращающихся из-за рубежа. Через пять дней после ареста Рембо на тот же вокзал прибыл Виктор Гюго, но с билетом первого класса и в сопровождении восторженной толпы.
Гюго и его республиканские сторонники, как полагали, образовали альянс с пруссаками. Безбилетный мальчишка, приехавший из области, которая теперь находилась в руках противника, мог оказаться частью этого авангарда. Выдать свой возраст за семнадцать с половиной, может быть, и было хорошей идей в профессиональном смысле в трех разных стихотворениях, написанных незадолго до его шестнадцатого дня рождения, Рембо намекал, что ему было семнадцать ; с юридической же точки зрения это было самоубийством.
Любой, кому уже исполнилось шестнадцать, осужденный за бродяжничество, приговаривался к шести месяцам тюремного заключения []. Рембо смотрел на верхние этажи многоквартирных домов, мелькавшие за решеткой в торце полицейского фургона — знаменитой «салатной корзины», о которой он раньше читал в «Отверженных».
Фургон скатился вниз по бульварам до центра Парижа, пересек Сену и остановился во дворе главного полицейского управления. Рембо препроводили в контору, где его допросил сержант, затем отправили в тюремный двор, пока его дело начало свое административное путешествие [].
В последние дни империи дела рассматривались быстро. Рембо оказался в окружении преступников, изнывающих от безделья, — сутенеров, воров-карманников и анархистов. Определенно в тот день произошло что-то неприятное, возможно, просто «ритуальное избиение», как заявлял Изамбар.
Но Изамбар имел тенденцию не верить в рассказы Рембо «о жизни в дикой природе». Заявление Рембо о том, что ему «не раз приходилось защищать свою добродетель» от непристойных посягательств, является вполне достоверным.
В конце концов он предстал перед следователем и отвечал на вопросы, задаваемые ему, с таким «ироническим презрением» по его же словам [] , что он, казалось, всем сердцем стремился в тюрьму. Поскольку у парня не было денег и он не смог дать адреса в Париже, магистрату ничего не оставалось, как отправить его в Ма-засский арестный дом.
Мучительный тур Рембо по Парижу теперь продолжился на восток, вдоль улицы Сен-Антуан, в сторону площади Бастилии и пролетарской окраины. В конце концов «салатная корзина» прибыла к зданию, которое путеводитель Томаса Кука по Парижу описывал туристам как «мрачный и отталкивающего вида» монумент []. Кирпичные стены Мазасского арестного дома возвышались над мрачным фабричным районом и трущобами. Флагман французской уголовно-исполнительной системы, Мазасский арестный дом был разделен на отдельные камеры, чтобы люди, чьи преступления носили «существенно разный моральный характер», не общались между собой [].
Очевидно, эта идея еще не стала модной в префектуре полиции. Рембо был раздет, обрит наголо, измерен — 5 футов 4 дюйма ,5 см — и отправлен принимать душ, пока его одежду окуривали. Затем его препроводили мимо ряда дверей и заперли в камере. В ней была газовая лампа, стол и табурет, два котелка для похлебки, бутыль с водой, крючки, на которых вешали гамак на ночь, и последнее слово санитарного оборудования — «туалет без запаха, оснащенный вентилятором», разительный контраст едкой уборной дома.
Питание доставлялось в металлических тележках, которые ходили по миниатюрным рельсам. Прошло несколько дней. В стране, близкой к краху, несовершеннолетние бродяги не были внеочередным приоритетом.
Рембо писал домой, но письмо так и не дошло. Сообщение было внезапно прервано.
Император сдался при Седане на следующий день после ареста Рембо. Прусская армия двигалась на Париж. На улицах рождалась современная Франция. Слово «имперский» в письме Рембо Изамбару свидетельствует о том, что Рембо ничего не знал об этих событиях. Единственным звуком, доносившимся до него из внешнего мира, был грохот поезда на близлежащем железнодорожном мосту. Я сделал все, что вы советовали мне не делать: я оставил дом своей матери и отправился в Париж! Арестован, так как я сошел с поезда без денег, и из-за долга железной дороге в тринадцать франков меня отвезли в префектуру, и теперь я ожидаю приговора в Мазасском арестном доме!
Я уповаю на вас, как на родную мать. Вы всегда были для меня братом, и я настоятельно прошу не оставить меня без помощи. Я написал матери, имперскому прокурору и комиссару полиции Шарлевиля. Если вы не получите от меня известий до среды, когда из Дуэ отправляется поезд до Парижа, садитесь на этот поезд и приезжайте сюда, чтобы подать либо письменное заявление, либо увидеться с прокурором и попросить его выдать меня вам на поруки и оплатить мой долг!
Сделайте все возможное и, когда получите это письмо, напишите, — да, я требую этого от вас, — напишите моей бедной матери набережная Мадлен, дом 5, Шарлевиль , чтобы ее успокоить.
Мне тоже напишите. Сделайте все, что в ваших силах! Я люблю вас, как брата, и буду любить, как отца. С приветом, ваш бедный Артюр Рембо ». Внизу страницы крошечный постскриптум содержал основной смысл письма, возможно, даже цель всего приключения. Рембо знал, что в шляпном магазинчике в Дуэ, в километрах к северу, живут три добрых сестры — тетки сироты, которого они вырастили как собственного сына, — Жоржа Изамбара: «И если вам удастся освободить меня, возьмите меня с собой в Дуэ».
У «бедного Артюра Рембо» была странно агрессивная манера вызывать жалость. С его уверенными требованиями, детализацией точного способа, которым должна быть предложена помощь, и уклонением от слова «пожалуйста» письмо Рембо Изамбару дает яркое изображение его воспитания: любая привязанность была неразрывно связана с принуждением.
Резкость его самоанализа — это одна из радостей его поэзии. В жизни это принимало форму эмоционального шантажа: Рембо имел разговор с «отцом». Изамбар, который уже на себе прочувствовал темперамент мадам Рембо, должен был написать матери Артюра и «успокоить» ее….
От Изамбара прибыл денежный перевод. Бродягу препроводили на вокзал и посадили на поезд до Дуэ. В полдень того же дня на тихой богатой улице на севере города «тетки» Изамбара открыли дверь угрюмому, с большими ногами и руками типу: молчаливому, взъерошенному и вонючему мальчику.
Даже в свежеобритом состоянии, его голова была заселена вшами. Процедуру, описанную в поэме Les Chercheuses de poux «Искательницы вшей» , Изамбар связывает со своими тетками; стихотворение было написано несколько месяцев спустя, и нет веских оснований прибегать к поддержке биографических фактов. Достаточно знать, что Рембо понравилось, когда над ним впервые в жизни хлопотали дружелюбные женщины. Он ругался, как заключенный, ел как свинья, никогда не передавал соль и ни разу не сказал «спасибо», но три недели спустя Изамбар нашел стихотворение, выдавленное карандашом на зеленой краске, которой была выкрашена парадная дверь: небольшую прощальную оду, но не хозяевам, а самому дому [].
Для Рембо, кажется, было проще высказывать почти все в стихах.